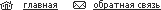Глава 3. Кадакес
У самой кромки воды по гладкой поверхности камня проложена полоска мха. Эта мохнатая поросль, уходящая в морскую глубь — чужая камню; похоже, она разъедает скалу, и камень размягчается, меняет свой стальной цвет на мягкий, бархатистый и теплый, как у миндального зернышка. Внизу же, в воде, мох разрастается и его зеленая паутина обволакивает скалистый берег, плещется в море, а где-то в глубине, темнея, нити становятся водорослями и обретают форму: травинка, веточка, лист. Если нагнуться, в заводи, в этой капле воды, увидишь свою жизнь, с трагедиями и радостями. Вот серебристая рыбка торопится укрыться от хищников — прозрачных, зубастых, крохотных акул, взметнувшихся целой стаей. Кажется, ей удалось спастись — укрылась за белым камнем. А вот неторопливо пятится рак, и рядом, на песчаной лужайке, отливая перламутром, красуется «башмачок Мадонны».
Жизнь буйствует, плещется и замирает в этой капле воды — таинственном и безмолвном морском мире. Он поражает воображение, но, в сущности, эта жизнь ничем не отличается от нашей, разве что наша не вызывает улыбки.
Какие сокровища запрятаны там, на береговой кромке! Чего только не находили мы там в детстве, роясь целыми днями в песке и гальке, — радовались, хвастали друг перед другом, а после теряли свое сокровище и напрочь о нем забывали. Одна из самых ценимых нами драгоценностей называлась «глаза Святой Лусии»1. Это овальные камушки, похожие на глаза, — гладкие и белые с пятнышком посередине, которое при известной фантазии может сойти за зрачок. А с другой стороны они розоватые с прожилочками, как живое тело.
Самозабвенно перерывая песок и гальку, теребя подушечки мха и кучи выброшенных на берег водорослей, мы искали «глаза Святой Лусии» и соперничали: у кого больше?
Но вот стихла трамонтана2, море посветлело, и над ним, еще минуту назад сиявшим яркой, ослепительной синевой, уже реет «белый покров». Еще мгновенье — и белое марево замерцает золотыми кругами, и закружатся крылатые муравьи, спутники заката. Они летят низко, вплотную к воде и часто, не рассчитав, гибнут. Море долго колышет их отяжелевшие, разбухшие останки...
Небо сияет; солнечный луч высвечивает золотистую пыльцу. А «глаза Святой Лусии», упрятанные в песке и гальке, спят — им темно, и только изредка уходящее солнце отыскивает их в космах выброшенных на берег водорослей, и под ногами что-то на миг загорается матовым лунным сияньем. Перебирая камушки, можно отыскать «глаза», но разбудить — нельзя. Надо опустить их в кислоту, и тогда «глаза» откроются. То же ведь и с людскими глазами: иные кажутся выцветшими, потухшими, и только невзгоды, как жгучее лекарство, смывают налет — и в глазах начинает светиться душа. Впрочем, у нас дома я не видела потухших глаз.
Клубы светящейся золотой пыльцы реют в закатных лучах и колоннами поднимаются в небо. А на «башмачках Мадонны» эта сияющая пыльца осела и замерцала. Как много их на прибрежном дне! Кажется, это радуга, засияв, обернулась вокруг ноги Богоматери и застыла туфелькой.
У скал, у мраморных глыб мы искали пластинки сланца, ракушки и кремни, которыми высекали искры, — у нас они считались самой ценной находкой.
Там, на берегу, прямо перед нашим домом, тетушка рассказывала нам сказки, а иногда даже играла с нами, пока мама была занята: в свободной утренней кофте с фестонами и помпонами — matinee — она отдавала распоряжения по хозяйству, и дом наш сиял чистотой. Нас было не оторвать от берега — во все глаза глядели мы на неприметную жизнь, открывшуюся нам на мелководье, и только стук зеленой двери заставлял нас обернуться: это мама выходила на террасу. Помню ее черные волосы, уложенные крупными волнами, — они сильно блестели на солнце, отливая глубокой, темной синевой; помню ее лицо — тонкие черты, улыбку, щеки, тронутые утренним румянцем. Она махала нам рукой, и мы снова погружались в созерцание морской жизни, кипевшей в заводи, а с террасы доносились глухие удары — там ежеутренне выбивали подушки.
Итак, раннее утро мы проводили на берегу. А к вечеру, если погода была хорошей, взяв с собой еду, выходили на лодке в море, отыскивали какую-нибудь удобную и красивую бухту и ужинали на берегу. Когда возвращались, над морем уже реял «белый покой». Брат в ту нору писал маслом по дереву — и картины просто лучились светом нашего моря и неба.
Я долго не понимала, что значил для нас Кадакес. Мне было там хорошо, говоря попросту — как рыбе в воде. Мне до сих пор кажется, что только тем воздухом я и могу дышать.
После обеда, за десертом, мама с тетей обычно начинали свои разговоры, но мы не упускали случая заявить о себе:
— Нам уже пора играть, но...
Взрослым приходилось отвлечься и выдать нам по конфете — без этого мы б и с места не двинулись, так и просидели бы за столом до самого ужина: переупрямить нас не мог никто. Но стоило дать по конфете, нас как ветром сдувало: мы бежали играть и играли самозабвенно, упиваясь игрой и не понимая, как это взрослые живут и не играют.
Больше всего мы любили играть в пещеры. Состояла эта игра вот в чем: надо было найти тайник и всем туда забиться, причем, чем больше народу набьется, тем лучше. Любимейшим нашим убежищем стало верхнее окошко в столовой, почти под потолком. Стены у нашего дома были толстые, и между стеклами оставалось пространство во всю ширь стены — туда мы и набивались как сельди в бочку, закрывали за собой форточку и сидели. Не знаю, как мы — когда шестеро, а когда и семеро детей — умещались на таком малом пространстве. Когда же мы с визгом распахивали форточку и буквально сыпались на головы взрослых, их удивление не знало границ. А мы, в восторге от впечатления, которое произвели, тотчас лезли назад, запирали за собой форточку и принимались орать, чтобы взрослые убедились, что все без обмана, что все мы там и орем хором. Однажды во время этой забавы у меня от тесноты и крика закружилась голова, и я, понимая, что одной мне все равно не выбраться, решила по крайней мере прекратить общий крик и предложила поиграть в другую игру — в мысли.
— Это как? — спросили соседские дети.
— Я знаю — как! — сказал Сальвадор. — Пусть каждый молча думает о чем хочет.
Все разом смолкли, и кончилось тем, что все, кроме нас с братом, заснули, а мы, как зачарованные, смотрели в окно на закат.
До сих пор не могу понять, почему в детстве нас, отправляя гулять на берег, так странно обували: парусиновые ботинки на шнурках и непременно белые носки. Не только нас — в таких же ботинках мучились все окрестные дети. Эта дурацкая обувь — единственное, что омрачало лето и нам, и взрослым. Почему нам, понятно: сорок раз на день парусина намокала, и родители то и дело тащили нас в дом менять обувь и носки. Мокрые ноги не лезли в недовысохшие ботинки, носки сбивались, и перемена обуви превращалась в пытку для всех. Но вот что удивительно, в один прекрасный день пытка прекратилась, а казалось, ей не будет конца. Настало лето, и всех нас обули не в опостылевшие ботинки, а в альпаргаты на лентах, о носках же больше и помину не было. В конце концов нам разрешили ходить по берегу босиком — и уже ничто не омрачало наше счастье. Куда сгинули ненавистные парусиновые ботинки вкупе с носками, бог весть, но с тех пор о них никто ни разу не вспомнил, а ведь казалось, что мы промучаемся в них всю жизнь.
Перед входной дверью, обычно распахнутой, у нас висела штора из разноцветных бамбуковых палочек, нанизанных на шнуры. Из-за нее нас не раз ругали, но мы все равно ухитрялись развязать конец шнура и снять столь необходимые нам палочки. Ими мы пускали мыльные пузыри — еще одно излюбленное наше занятие. Кладем мыло в воду, ждем, когда кусок размылится, и начинаем выдувать пузыри. Огромные, отливающие всеми цветами радуги, они разлетаются — только успевай глядеть по сторонам, как парят они в воздухе, отражая скалы, небо и море, парят и лопаются, забрызгивая нас мыльной пеной. Один миг длится их радужная жизнь — миг, и не остается ничего, только память о чуде.
Сумерки Кадакеса — сокровищница теней, полутонов, оттенков. Из моря встает луна, розовая, как арбузная мякоть, и светлая дорожка ложится на морскую гладь. Луна поднимается все выше и бледнеет, заливая все вокруг серебряным светом, — и в мире преображается все, даже самые неприметные, обыкновенные вещи.
Поздними летними вечерами отец иногда давал нам уроки астрономии. В мощный бинокль мы разглядывали небо — созвездья были совсем близко. И в те же августовские вечера, на берегу, иод темно-синим высоким сводом отец декламировал для нас басни Саманьего. Так они навсегда и запечатлелись в нашей памяти, яркие, как переводные картинки. Эти августовские ночи — одно из самых драгоценных воспоминаний моего детства.
Брат, можно сказать, с пеленок говорил, что хочет стать Наполеоном. И вот однажды, когда взрослые решили показать нам часовню Святого Себастьяна, Сальвадор уже на полдороге выбился из сил. Тогда тетушка смастерила из бумаги треуголку, надела ему на голову и сказала:
— Ты же Наполеон!
И брат немедленно воспрянул духом. Он схватил палку, оседлал ее и понесся вверх по горной круче, прямиком к часовне. А тетя, зная, что его все же одолевает усталость, стала выстукивать по деревяшке барабанную дробь, и этого оказалось достаточно. Сальвадор пришпорил коня, то есть тоненькую свою палку, и пустился вскачь, хотя просто валился с ног. Словно крылатый Пегас, конь его могучего воображения домчал брата до самой вершины — до часовни.
Примечания
1. ...«глаза Святой Лусии». — Лусия, католическая святая, дева из Сиракуз, которую при Диоклетиане, в 34-м году, подвергли, испытывая ее веру, жестоким пыткам и ослепили, вырвав глаза. Ее житие и имя, означающее «свет», породили множество легенд и преданий, варьирующих мотивы света и глаз. Церковь поминает Святую Лусию 13 декабря — когда начинает удлиняться световой день.
2. Трамонтана — сильный северный ветер, нагоняющий холод на несколько дней.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |