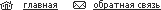Художник, пригвожденный поэтами к позорному столбу
Если сливки общества принимают Дали и Гала, то среда поэтическая, напротив, относится к ним неприязненно и потихоньку поворачивается к ним спиной. Времена Макса Эрнста прошли, когда из солидарности с другом круг парижских дадаистов вставал на защиту неизвестного художника, открывшего им свои удивительные находки, технику и колорит. У Дали в Париже среди поэтов никогда не будет сторонников, кроме искреннего Рене Кревеля и Поля Элюара; не будет даже ни одного друга. Его искусство, расцениваемое то как академическое, то как «скотологическое» вызывает больше споров, чем восторгов. Личность его раздражает: слишком индивидуалист и слишком независим, суматошный и неконтролируемый, странноватый, в конце концов, и не очень-то знаком с общепринятыми правилами.
Однако Дали участвует в торжественных собраниях и конференциях, которые Бретон организовывает то у себя, то в кафе «Сирано», где он устроил свой штаб. Присутствуя на большинстве заседаний, Дали принимает участие в разработке сюрреалистической теории не только тем, что выдвигает идеи (на это он щедр), но и тем, что пишет тексты, в которых за часто туманным стилем, иногда недоступным для понимания, вырисовывается его мировоззрение как художника. Когда Дали пишет, он так же оригинален, как тогда, когда говорит или рисует. «Видимая женщина», напечатанная в 1930 году с предисловием Поля Элюара, ссылается на одно из его открытий: мысль он определяет как «параноидально-критическую» или называет ее «критически-параноической». Это, по словам Поля Элюара, «самый великолепный инструмент из когда-либо предложенных для того, чтобы проникнуть в бессмертные останки женщины-призрака с серо-зеленым лицом, смеющимися глазами, с волосами в тугих локонах, являющейся не только олицетворением нашего рождения, но еще более притягательного призрака будущего». Тогда никто не боялся тарабарщины: ни Сальвадор Дали, который всегда любил интриговать и удивлять загадочным языком и путаными формулировками; ни Поль Элюар, который в своем представлении «Видимой женщины» использует несвойственный ему стиль — затейливый стиль абстракций — и выворачивается наизнанку для того, чтобы быть умным и сложным; ни Бретон и его друзья, наконец, до сих пор всегда предпочитавшие нереальные символы разумной, понятной речи. Гала же с самого начала написания «Видимой женщины» продолжает подбадривать Дали не только в том, что касается живописи — она охраняет уединение и покой, когда он работает, — но и в том, что касается литературного творчества. Она хочет, чтобы Сальвадор принимал активное участие в движении интеллектуалов-сюрреалистов. Гала хочет, чтобы он играл в нем заметную роль. Она гордится, когда своими заявлениями или своими статьями Дали заставляет группу признать себя. Гала полностью солидарна с его методом, даже если он «параноидально-критический»; она поддерживает точку зрения своего спутника жизни и никогда ни с чем не спорит. Все, что он говорит, все, что он пишет или рисует, Гала принимает одновременно с Дали. У Дали есть право говорить о том, что «Гала предана ему фанатично»1.
Когда Дали выходит за мыслимые границы, она не пытается сгладить углы, но следит за произведенным эффектом. Гала бдительна — отдает себе отчет в том, чем рискует Дали, — и методична: как только он перебарщивает, провоцирует товарищей, отпуская непристойные высказывания, противоречащие их принципам, она вмешивается только для того, чтобы призвать на помощь Поля. Гала пишет ему или идет к нему. И добивается того, что Поль все улаживает. Элюар, привычный к общинной жизни сюрреалистов, защищает ее Далишку и часто, убежденный другими способами в «очень больших артистических способностях Дали», по просьбе Гала исправляет его оплошности, дерзкие и ребяческие выходки. Он разыгрывает благодетеля так благородно и терпеливо, что Сальвадор становится единственным звеном, соединяющим его с Гала, за исключением Сесиль — девочка находится в пансионе в Фонтенбло и, кажется, вовсе не заботит мать.
Но Сальвадор не облегчает Полю задачи. Он систематически выступает против парижской интеллигенции, он хочет разрушить идолов группы. Имея в качестве свидетеля бесстрастную Гала, слишком счастливую от того, что ее жизнь связана с жизнью человека с таким богатым воображением и столь изобретательного, он дерзко противостоит изумленной компании, выступая против африканского искусства за Микеланджело, против предметов быта дикарей за модерн, против коллективного за индивидуальное, против эгалитаризма за иерархию, против скептицизма за веру, против шпината за улиток.... но яростнее всего — и это намного серьезнее, это как перчатка, брошенная в лицо друзьям-сюрреалистам, — против политики за религию и против революции за традицию.
Впрочем, политика является главным сюжетом для размышлений сюрреалистов, она вызывает серьезные разногласия. Россия стала для них большим зеркалом, отражающим их мировоззрение, и они дерутся между собой, чтобы узнать, кто прав — Троцкий или Сталин — и за кем из новых пророков следует идти, чтобы освободиться от модели общества буржуазного и декадентского, так разочаровавшего Францию. Коммунизм стал предметом споров, единственным предметом споров среди поэтов, которые не хотят больше думать о грезах, бредовых снах и детских играх, но ищут способ борьбы за добро и настоящее дело. По известной формуле, коммунизм в тридцатые годы был «молодостью и надеждой мира» Арагон, Бретон, Элюар вступили в партию 6 января 1927 года, в праздник Богоявления, как вспоминал Арагон. Пере, Кревель, Пикассо, Тцара тоже соблазняются. Дали не только не войдет в число противников догмы и объединения в бригады (Супо, Арто, Витрак роптали на «надежду мира», и после шумных дебатов в конце концов отдалились от группы старых дадаистов), но и окажется неистовым бунтовщиком. Догме он противопоставляет свой «макиавеллиевский фанатизм» и свою глубоко индивидуалистическую натуру, противящуюся какой бы то ни было вербовке.
Первый рекрут идеологии, увлекающий группу, и самый пламенный ее защитник — это Луи Арагон. Он вернулся из России, где в ноябре 1930 года присутствовал на конгрессе Международного союза революционных писателей, имевшем тяжелые последствия. Там Арагон попытался, но безуспешно, защищать позиции сюрреалистов, в частности силу грез и подсознательного, но у участников конгресса в головах были другие приоритеты и они добились того, что Арагон подписал по-настоящему самокритичное письмо, заклеймившее «Второй манифест сюрреализма», «противоречивший диалектическому материализму», а также фрейдизм как «идеалистическую идеологию», разновидность троцкизма. После его возвращения отношения друзей отравляются бесконечными дискуссиями на тему, которая уже давно их занимает: можно ли быть коммунистом и сюрреалистом одновременно? Кое-кто с трудом, но допускает это: кажется, что другого пути нет.
Луи Арагон не любит Сальвадора Дали. Аллергию вызывает его личность, его стиль, Арагон упрекает Дали в том, что ему нравится лишь декадентское искусство, этот образец буржуазного духа; в том, что он посещает привилегированных людей, которых сам Арагон ненавидит; в том, что продает свои полотна Шанель, Кокто и всей фауне богатых людей слишком благородного происхождения, почти старорежимных, и им на потребу, для того чтобы ослепить их, завоевать их декларирует свои бесполезные кредо. Арагон упрекает Дали в сюрреализме настолько полном, насколько и утраченном, в инфантильной манере играть красками и словами, которые никогда и никому не пригодятся, и уж конечно революции, ставшей для Арагона солнцем (он проповедует ее добродетели со страстной нетерпимостью).
Дали — сюрреалист чистой воды. Как напишет об этом без малейшего фанатизма Жорж Юнье, один из наблюдавших разрывающие группу ссоры, приведшие в конце концов к ее распаду, «впервые сюрреалист действительно, дошел до конца системы»2. Он непредсказуемый, мятежный, не поддающийся приручению, логичный в фантазмах и безумный в логике. Он живое воплощение вечного сюрреализма. Он устраивает конференции для того, чтобы ничего не сказать. В Лондоне Дали чуть не погиб от удушья; запутавшись в бессмысленных декларациях, опрокинув ночной горшок на прическу одной старой даме, принятой им в «хэппенинг»3, он сам являл собой образ сенсационный и бесполезный. Нарцисс, вдохновенный, гениальный и в то же время ненавидимый теми, кто верит в подвиги коллектива и ставит своей самой достойной, единственной в жизни целью защиту пролетариата, Дали занимается только собой и Гала — она неотделима от Дали. «Молодость и надежду мира» он понимает только в искусстве, в своем искусстве, и это во время процветания марксистской философии и ее новых пророков!
В тридцатые годы для того, чтобы заработать на жизнь, а также и для того, чтобы продемонстрировать животворные источники своей личности, Дали придумывает, создает, изготавливает множество предметов, заставляющих его мечтать и смеяться, предметов сюрреалистических, призванных дать ответ «кретинизму» африканского искусства, но никак не способствующих прогрессу мирового пролетариата: кучу искусственных ножей с зеркальцами, чтобы смотреться; обнаженные восковые манекены, покрытые насекомыми и омарами, для украшения витрин больших магазинов; калейдоскопические очки для машины, надевать которые рекомендуется во время следования по скучным пейзажам; специальный макияж; туфли на пружинах; фальшивые груди для ношения на спине; ванны без воды и даже ванны без ванн; аэродинамические кузова для роскошных автомобилей... С этими изобретениями, которые не должны приносить большой пользы, а еще лучше — вообще никакой, Дали может похвастаться, что создал из идеи небольшой группы интеллектуалов, малоизвестных поэтов, течение, которое благодаря его усилиям, его озарению, благодаря друзьям-космополитам пересекло границы и стало известно в Лондоне и даже в Америке. На Западе в тридцатые годы существует мода на две вещи: первая — быть сюрреалистом на манер Дали это значит экстравагантным, забавным, провоцирующим и абсолютно, до гениальности, бесполезным); вторая — коммунизм.
Но призма России меняет угол зрения. Андре Бретону пришлось потратить немало сил, чтобы доказать, что можно быть сюрреалистом и коммунистом одновременно, что оба течения родственные и что они могут даже помочь друг другу в деле всеобщего подъема и великой победы революции над силами буржуазии. Невероятным усилиям, которые Бретон употребляет для улещивания коммунистической партии и для того, чтобы убедить ее в том, что сюрреалистам предстоит сыграть важную роль, Дали только мешает и все портит. Потому что сюрреализм официально встал «на службу революции». Журнал группы, который выходит под патронажем Андре Бретона, теперь называется «Сюрреализм на службе революции» — он пришел с 1 июля 1930 года на смену двенадцати усопшим номерам «Сюрреалистской революции». Дали сотрудничает в журнале как активный участник движения. И его репутация чудака, поэта, не отвечающего за свои действия, наносит серьезный вред дебатам...
Раньше всех отчаявшийся Луи Арагон возлагает на себя обязанности генерального прокурора, чтобы обвинить Дали в серьезном проступке — в социальном равнодушии. Поэт считает Дали виновным в том, что он интересуется только собой и не замечает происходящих на планете бед, в том, что он дурачится, тогда как пробил час великих общественных потрясений. Арагон пришел в ярость, когда однажды Сальвадор, ища сенсации, бросил идею о мыслительной машине, которая состояла бы из качающегося стула, покрытого кружками с горячим молоком! Арагон рассвирепел: «Покончим с эксцентричными выходками Дали! — возмущался он. — Оставим горячее молоко шахтерским детям!» И не он один был в ярости.
Быстро ширится пропасть между Дали, который все лучше и лучше играет свою роль возмутителя, человека, мешающего стоять на одном месте, решившего с помощью Гала защитить свою свободу в группе, и поэтами, как и Арагон, пропитавшимися идеологией, постепенно принимающими философию ангажированности и преданности служению какому-то делу. Но единственным известным Дали делом является живопись. Политика не в его вкусе — это меньшее, что он может сказать.
В четвертом номере «Сюрреализма на службе революции» вместо того, чтобы воспевать ненависть к буржуазии, которую он посещает, и хвалить пролетариат, о реальном существовании которого он не подозревает, Дали дает текст, вызвавший дрожь у Арагона и настроивший против него членов партии: это шизофренический бред, в котором с помощью навязчивых фантазий Сальвадор создает из порнографии свое оружие для гражданской войны. В нем художник поддерживает восхваление копрофагии — старая песня времен его юности, порок, который он превозносит как добродетель и которому «Скорбная игра» уже явилась иллюстрацией. Арагон — и не только он — в шоке. Он еще более шокирован тем, что скандальный текст Дали — «грязный», как говорит Арагон, — осмеивает высоконравственные и даже морализаторские намерения журнала. Арагон потребует, и не сразу добьется, исключения автора.
Поэты отправились в долгий крестовый поход. Фантазия, веселье, юмор теперь расцениваются как клоунские трюки или как опасность, угрожающая Великому Делу и считаются неприличными. Дали, этот художник, посещающий богачей и игнорирующий бедняков, этот светский человек, который пьет шампанское с князьями, виконтами, богатыми американцами, неприятен и вызывает беспокойство. Несмотря на усилия Гала (она беспрестанно хлопочет в его пользу перед Полем), несмотря на благородные попытки Поля, пытающегося защитить любовника своей жены перед Луи Арагоном и поэтами, которые, как и он, призвали поэзию на службу Революции, Дали оказался в стороне как опасный, нежелательный человек в общине интеллектуалов-сюрреалистов. От него начинают отмахиваться, как от чумы. Полю Элюару остается лишь сожалеть о его упрямстве. «Главное — это поддержать совместную деятельность, без которой всякая интеллектуальная деятельность быстро превратится в бесполезную, даже вредную, потому что обуржуазится»4, — пишет он Гала, поручая ей передать этот совет Дали: может быть, он предостережет его от излишнего рвения.
Дали вышел из доверия, но это его не смущает. Напрасно Элюар проповедовал осторожность, умеренность, скромность: Дали не останавливается, он хватает через край, готовит еще более серьезный скандал. Художник не пытается раствориться в общей массе, напротив, он старается выделиться и самым необыкновенным способом, шокировать, раздражать, он продолжает совершенствоваться в искусстве провокаций. И, так как политика, кажется, решила не принимать поэзию всерьез, потому что борьба идей вызывает больший интерес, чем поэтические планы, Дали устремляется туда, где может добиться цели. Он продолжает проводить парижские уик-энды в компании капиталистов, наслаждаться отдыхом в «Мулен дю Солей» и безбедно жить на средства, предоставляемые «Зодиаком». И в 1933 году он придет на улицу Фонтен к Бретону и его возмущенным друзьям, чтобы пропагандировать фашизм: выспренным слогом, с гротескной мимикой и жестами он объяснялся в любви к Гитлеру, хвалил его методы и идеи!
«Мне хорошо известно, что Дали не сторонник Гитлера», — сразу же после этого события напишет Гала крайне опечаленный Элюар. Чтобы показать свою убежденность в этом, он подчеркивает фразу. «Но, — добавляет он категорично, — необходимо, чтобы он нашел другую тему для бредовых излияний... Хвалить Гитлера недопустимо, это повлечет гибель сюрреализма и нашу разлуку»5. Элюар говорит о том, что для честного человека, будь он сюрреалист или нет, недопустимо преступать определенные границы. И все же позиция Гала в этой ссоре, если судить по письмам Поля, ясна: она защищает своего Дали, даже если он замешан в самом безнадежном, гибельном деле. Гала никогда не отклонится от этой Линии: чтобы ни говорил Дали, чтобы он ни делал, она идет за ним, она согласна со всем. С Полем она будет говорить лишь о том, что группа ненавидит, не понимает и завидует Сальвадору. Гала считает, что виной всему окружение. Дали может все сказать, все сделать, в ее глазах он прав, она присоединяется к его лагерю, который отныне будут осаждать, не принимать всерьез и высмеивать враги. С самого начала их совместной жизни, не зная еще, что настанет тот счастливый день, когда можно будет себе все позволить, Гала становится с ним единым целым, она принимает его безумие. Она не хочет его изменить, сделать из него другого человека, поддерживает его, несмотря на клоунские, вызывающие выходки, в поисках самого себя. Через хитросплетения поэтической жизни и жизни светской она проходит как цельная личность, полностью разделяя идеи Дали, даже самые нелепые и ужасные из них.
Сразу же после Арагона рассердился Андре Бретон. Хотя он и поддерживал Дали на первых порах и принимал у себя с распростертыми объятиями, будучи уверенным, что каталонец привнесет в движение силу молодости, хотя и покупал у него картины, Бретон быстро потерял терпение от бессмысленных выходок художника. Времена изменились. Дадаисты потеряли чувство юмора. Группа не помышляет больше о шутках. Настало время для серьезных вещей. Андре Бретон задает тон все более и более ученый и менторский; он возлагает на себя обязанности начальника и цензора. В журнале диктует законы Бретон. Отказавшись от давних шуток, поэт распростился с молодостью. Он, взрослый, разговаривает и поучает маленького Дали, этого мальчишку. Бретон больше вовсе не желает смеяться. Политика — это табу. На эту тему он высказывается только серьезно, он догматичен, тогда как Сальвадор касается этой темы весело, насмешничает и фетишизирует ее одновременно. Бретон ненавидит Гитлера, что вполне понятно, но он восторгается Троцким и ищет себе образец для подражания в мутных водах большевизма.
Дали это очень хорошо понял и поспешил ускорить разрыв. В салоне «Независимых» в феврале 1934 года, когда он уже был гоним группой за признание в любви Гитлеру, Дали осмелился выставить огромное (два на три с половиной метра) полотно, явившееся вызовом банде, — «Загадка Вильгельма Телля». Он считал, что Вильгельм Телль должен олицетворять трагедию отца и сына. На первом плане изображен сидящий на корточках Ленин с обнаженными ягодицами — в непристойном, смешном виде, в подвязках для носков и в большой фуражке; он пытается съесть кусок от Дали — напуганного ребенка. Бретон кричит о богохульстве: уничижительно представив коммунистического лидера, Дали подорвал политический фундамент группы, ослабил ее позицию, и так уже довольно пошатнувшуюся в глазах марксистов, с которыми он еще надеется наладить совместные действия.
Бретон устраивает у себя судилище. Созываются все сюрреалисты. На призыв не откликнулись только Тцара и Элюар. Дали явился в широком пальто из верблюжьей шерсти, в ботинках без шнурков, он прихрамывает и оступается. Жорж Юнье рассказывает: «Впереди него идет Гала, ее взгляд, как у загнанной крысы, говорит о том, что она как женщина не понимает, за что мучают ее гениального супруга, а как импресарио — почему мешают карьере ее дебютанта. Место ей знакомо, она с важным видом, будто член административного совета, идет прямо к дивану, далеко не пустому уже, и без церемоний усаживается».6 Гала сама прокомментирует Полю Элюару в письме, которое позже вместе с другими письмами будет превращено в пепел, заседание, в ходе которого Дали сам защищал себя, в бредовом, но тем не менее не лишенном своего смысла стиле перед Бретоном, всерьез принимавшим его роль адвоката. Судили человека, художника, члена сюрреалистической общности, обвиняемого, по выражению Бретона, «в многочисленных антиреволюционных деяниях, направленных на прославление гитлеровского фашизма».
Дали импровизирует. Он не утратил чувство юмора. Он говорит с термометром во рту, то и дело вынимая его, чтобы взглянуть на шкалу делений. У Гала бесстрастное лицо. В то время как Бретон предъявляет «маленькому мальчику Дали» всю серьезность его вины, распаленный Сальвадор, защищаясь, быстро выступает вперед и кричит со своим отрывистым акцентом: «Я люблю вас, Бретон! Сегодня ночью мне приснилось, что я поимел вас в зад!» И Бретон отвечает сухо и холодно, без тени улыбки: «Я вам этого не советую!»
По окончании продолжительных дебатов, во время которых только Дали нес сюрреалистический бред, он будет исключен из группы «как фашистский элемент». Дата? Можно подумать, что ее выбрали не случайно: 5 февраля 1934 года, канун выступления против объединения крайне правых сил. Среди подписавших решение об исключении Дали — Макс Эрнст. Он одобрил постановление, в котором не хватало подписей единственных защитников Дали среди собратьев — Элюара и Кревеля. Вердикт трибунала: Дали должен рассматриваться «как элемент, с которым нужно бороться всеми средствами».
Он этого и добивался. Поль Элюар расстроен еще и потому, что Гала возлагает на него ответственность за исключение. Она считает, что его защита будто бы была слишком вялой или слишком плохой, и некоторое время будет выражать ему свое недовольство. Элюар протестует против упрямства Дали (оно кажется ему «настоящим предательством») и грустно заключает с очевидной усталостью, чтобы реабилитироваться в глазах Гала: «Я пытался действовать как можно лучше. Я защищал и буду защищать Дали, предостерегая от неизбежных по следствий его упрямства... В этой истории, возможно, только я и остался наказанным». И добавляет: «Знаешь, моя дорогая Гала, теперь я боюсь больше, чем когда-либо, разонравиться тебе, наскучить тебе... Однажды, девочка моя, все же придется признать, что в моей жизни, что бы я ни думал, что бы ни говорил и ни делал, в ней ты, ты была ответственна, по-настоящему ответственна за все... Целую тебя со страшной силой повсюду. Твой навсегда Поль»7.
После исключения, положившего конец шумной истории и связанной с нею непрерывной черед разногласий, сюрреалисты во главе с Бретоном пытаются предать реалистический и общественный смысл своей поэтической борьбе, а Сальвадор Дали вместе с Гала отправляется в Испанию. Близится весна, и он, как всегда, спешит вернуться на свежий воздух, в покой своей деревни. Слишком затянулась в Париже их светская и интеллектуальная жизнь. Для Дали смысл жизни здесь, в Порт-Льигате, в доме, где его ждут холсты и краски. Здесь он бывает самим собой, здесь он обретает вдохновение и силу, необходимую для творчества. И все это происходит в присутствии такой же спокойной, такой же терпеливой, такой же верной, как жена рыбака, Гала.
Вспоминая о тех временах, о ссорах с группой, с Бретоном и Арагоном, Дали с юмором скажет: «Единственная разница между сюрреалистами и мною в том, что я — сюрреалист»8.
Примечания
1. «Тайная жизнь Сальвадора Дали», стр, 227.
2. «Pleins et Delies» («Одухотворенные и проницательные»). Guy Auther, 1972, стр. 261.
3. Хэппенниг — театральное представление с элементами импровизации (прим. пер.).
4. «Письма к Гала», стр. 230.
5. «Письма к Гала», стр. 230.
6. «Одухотворенные и проницательные». Цит. соч., стр. 261.
7. «Письма к Гала», стр. 233-234.
8. Луи Пувель «Страсти по Дали». Denvel, 1968, стр. 242.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |